Увидеться и пообщаться с ЭДУАРДОМ ЛИМОНОВЫМ мне довелось дважды. Первый раз – зимой 1992-го в литературно-драматической редакции телекомпании «Останкино», где я работал режиссёром-стажёром во время учёбы на режиссёрском факультете Московского института телевидения и радиовещания. Тогда группа редактора Татьяны Земсковой готовила встречу с ним – только что получившим советское (а значит, и российское) гражданство и начавшим издаваться на Родине.

Я, только что прочитавший «Эдичку…» и «Великую эпоху…» был под впечатлением от его прозы. Она смогла занять своё место в ряду произведений таких авторов, как Чехов и Бунин, по которым я снимал дипломные работы. Качество литературы, упомянутых писателей-классиков задало такую планку требований к текстам современных авторов, преодолеть которую долго не мог никто из тех, с чьими сочинениями я соприкасался. Многие казались вторичными, какими-то неуклюжими, многословными, лишёнными свежести, уникальности и творческого полёта. И вдруг, в связи с предстоящей встречей с Лимоновым, ко мне попали его «откровения» – трогательнейшие, наполненные невероятной энергией, смелостью и трепетной искренностью, перешагивающие иногда границы «дозволенного». Они сразу же заинтриговали, захватили меня. Язык Лимонова, «простой», ясный, с точно подмеченными неожиданными деталями, иногда эпатажный, но по-дружески доверительный и заразительный, увлёк в путешествие, в которое я пустился с удовольствием. Это путешествие по лимоновским романам, а потом и публицистическим книгам я продолжал на протяжении многих лет, то отдаляясь, то приближаясь к ним вновь.
Нет смысла здесь погружаться в его биографию (и эпизоды политической жизни). Она известна и доступна всем, кому так или иначе интересна. Есть интернет и книги самого Лимонова и его биографов. Читай, изучай, делай выводы…
Хочется только сказать несколько слов о его стиле – о так называемом «мемуарном подходе» к творчеству, степени откровенности писателя, которая до сих пор вызывает «непонимание», неприятие, а то и отторжение его произведений у каких-то вставших в позу эстетствующих «гурманов» и «охранителей» классических традиций, подобную откровенность никак не принимающих и всякий раз ратующих за литературное изящество, художественность и в каком-то смысле даже авторскую анонимность.
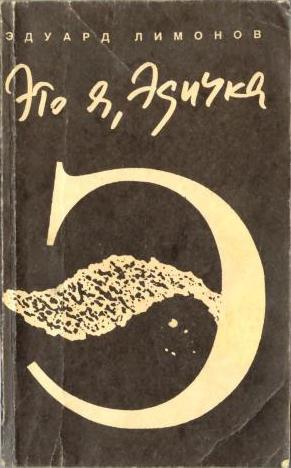
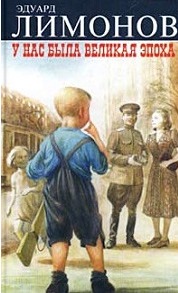
Я уже было написал несколько страниц, рассказывающих о своих ощущениях от лимоновской прозы, её истоках, произведениях, ей предшествующих, и о том, почему и как писатель пытается раздвинуть творческие границы… Как вдруг увидел в интернете замечательные размышления ЮРИЯ НАГИБИНА о природе «дневниковой прозы». С частью нагибинского монолога (предваряющего его собственный «Дневник», вышедший в 1994-м) мне захотелось познакомить читателей и самому ещё раз в его вербальную стихию и аргументацию погрузиться, ибо затрагивают они напрямую не только Нагибина, а и, конечно же, Лимонова, равно как и других авторов, по подобному «мемуарному» пути двигающихся. И адресованы читательской аудитории, пытающейся с этим литературным направлением как-то разобраться, преодолевая недоверие, предубеждение, а то и боязнь.

«Да, я твердо уверен, что совершенная искренность и беспощадность к себе полудневника-полумемуаров могут заинтересовать других людей, ибо помогают самопознанию. Истертая, как старый пятак, мысль Паскаля, что человеку по-настоящему интересен только человек, истинна именно в силу своей банальности, то есть общепризнанности. Но из всех людей человеку наиболее интересен он сам. Есть писатели вовсе чуждые самокопания, они изображают объективный мир, начисто самоустраняясь. А есть писатели, неудержимо стремящиеся разобраться в самом себе. И вовсе не от преувеличенного представления о собственной личности, скорее наоборот – от горестного сознания ее несовершенства, дурности, несоответствия тому образцу, который носишь в душе. И такие писатели должны относиться к себе с беспощадностью ученого, препарирующего кролика, или вскрывающего головной мозг собак, или – это, пожалуй, точнее – испытывающего новое, неизвестное лекарство и ради этого прививающего себе смертельно опасную болезнь. Тут не надо щадить себя, думать, а что скажут о тебе люди, ведь в конечном счете ты рискуешь, даже жертвуешь собой ради общей пользы. Человек не остров, эта мысль стара, как и афоризм Паскаля, и столь же справедлива: познавая себя, ты познаешь материк, имя которому человечество.
При этом я прекрасно понимаю, что такая «разнузданность перед вечностью» будет многих раздражать… Скажу на это лишь одно: самая потрясающая по искренности книга о себе – «Исповедь» Жан-Жака Руссо может быть припечатана бранно-научным словом /душевный эксгибиционизм/ с полным основанием. Любопытно, что великий писатель грешил в юности непристойным обнажением и в прямом смысле слова, о чём пишет с полной откровенностью, присущей и вообще этой единственной в своём роде книге. Современники Руссо – люди второй половины восемнадцатого века – всё поняли и не отказали в уважении автору «Элоизы», напротив, его слова достигли пика. Но «люди наши» в моральном смысле куда требовательнее и нетерпимее, нежели томные европейцы эпохи, предшествовавшей Великой французской революции. Себе они прощают всё: беспробудное пьянство, доносительство, любое непотребство, но от литературы требуют порядка и целомудрия, как в пансионе для благородных девиц…

Пусть такие моралисты не читают мой дневник, хотя ему в смысле интимных откровенностей куда как далеко до признаний Жан-Жака.
Кому адресован дневник?.. Это разговор с собой, с глазу на глаз, иногда попытка разобраться в собственной мучительной душевной жизни, иногда просто взрыв, и это бывает нужно. Но случается, и не так редко, что внешняя жизнь становится для меня интересней изнурительной душевной работы…
Перепечатывая дневник для издания, я не добавил в нём ни строчки, но кое-что изъял, щадя порой людей, не заслуживших доброго слова. В справедливости первого я убежден (изначальным выбором руководило подсознание – самый чистый источник), в справедливости второго – не очень. Почему скверные поступки позволительны, а разговор о них – табу? Если у тебя хватало мужества быть дурным в жизни, не пасуй перед своим изображением в литературе.
Итак, кому нужны мои записки с их отдалённостью от столбовой дороги нашей сияющей жизни? С их нытьем, слезами, злостью, иногда радостью, с их удивлением перед бытиём, с их самокопанием? За пятьдесят пять лет профессиональной писательской работы я приобрёл читателей, оставшихся мне верными и в наше неблагоприятное для литературы время. Мои книжки по-прежнему расходятся… Значит, этим читателям я нужен, и вполне естественно, что им захочется увидеть подлинное лицо автора, остающееся в тени беллетристических ухищрений…

Альфред де Мюссе, «второй величайший поэт Франции», как окрестил его Виктор Гюго, оставив тем самым первое место за собой, написал замечательную прозу «Исповедь сына века» – не событийную, а духовную историю молодого человека середины девятнадцатого столетия. Смешно было бы мне претендовать на столь глобальную задачу. Но мои записки тоже принадлежат сыну века, нынешнего, идущего столь бесславно к своему завершению, и в этом их объективная, пусть незначительная, ценность, не связанная с моей личностью, ибо через меня, как и через каждого человека, отваживающегося жить, а не тлеть, говорить, а не молчать в тряпочку, отражается время, эпоха, хочешь ты того или нет.
Я ничего не имею против художников, писателей, поэтов, считающих, что искусство и литература ничему не служат, что они сами по себе, игра свободных внутренних сил, никак не касающаяся жизни, не отвечающая перед ней. Но всегда помню слова Шарля Бодлера, одного из зиждителей теории искусства для искусства, что литература, всё-таки, для чего-то нужна, что она чему-то служит, даже вопреки намерениям творца. То есть не бесцельна и не безответственна. Но это ровным счётом ни к чему не обязывает и не должно обязывать писателя и поэта. Они поют вольно, как птица. Кстати, птица никогда не поёт вольно. Поют самцы весной, в брачный период, заманивая самку. Это очень «направленное» пение, имеющее конечной целью продолжение рода, то есть главное предназначение всех живущих существ. Мы не понимаем голосов птиц и для нас это бессмысленный милый щебет.


Для меня нет ничего важнее в жизни, чем литература, я имею в виду не собственное писание, а чтение, и я никак не могу считать её щебетом, игрой. То же относится и к искусству. Человек, нарисовавший быка на скале, решал какую-то задачу, а не просто водил рукой от нечего делать. Он или подчинял себе это опасное животное, или пытался умилостивить лестным портретом, а может, хотел передать кому-то, что он есть в пустынном и враждебном мире, и как бы предлагал партнёрство. Во всяком случае, первобытное творчество – не искусство для искусства, а сцеп человека с миром, жизнью, себе подобными. Отрыв искусства от цели и смысла шёл от лукавого, разочарованного и недоброго ума.
Пусть этот дневник – прерывистый след одной жизни – будет моим быком в нашем отнюдь не потеплевшем мире…»

…Вторая встреча с Эдуардом Лимоновым произошла в Воронеже два или три года назад во время его вечера в «Петровском пассаже». Сначала из зала я задал ему несколько вопросов о его участии в телевизионных передачах и кино, а после церемонии раздачи писателем автографов подошёл, чтобы поговорить накоротке. Его торопили охранники, кто-то ещё пытался фотографироваться «на фоне» Лимонова, бросая какие-то присущие моменту фразы. Но мы смогли продолжить начатый вопросами в аудитории разговор.
– Вы спрашивали о телевидении и экранизации в кино моих вещей, – сказал Эдуард Лимонов. – А я ответил Вам в зал, что меня это мало интересует. Тут надо пояснить. Процесс экранизации в кино сложный, затратный, требующий необходимого таланта и смелости режиссуры. А я фигура скандальная, «экстремистская», неформатная. Со мной боятся связываться. Вы назвали несколько романов: «Смерть современных героев», «Последние дни супермена», «Палач», «Коньяк “Наполеон”»… Все они – почти готовые сценарии. Но кто за них возьмётся?.. Это же сериалы. Кому они нужны на антисоветском ангажированном телевидении. Оно, обслуживая своих неправедно разбогатевших, заевшихся и лицемерных хозяев, будет скорее спонсировать фильмы о репрессиях, лагерях, советских «ужасах» или какую-нибудь слезливую дребедень… Снял несколько лет назад по моим произведениям фильм «Русское» Александр Велединский. Вот и всё на этом закончилось.
– Вас долго не пускали на телевидение по понятным причинам. Потом Вы появились и опять пропали. Больше не зовут, или Вы сами не хотите?
– Меня разрешили показывать после присоединения Крыма, к которому я давно призывал. Но участвовать в передачах, где ничего не дают сказать, – пошлых и ненужных – не имеет смысла. На телевидении хорошо получается у Александра Андреевича Проханова. Он умница и стойкий боец. Удачно за всех нас бьётся.

Увидев у меня в руках книги «Лимонов против Жириновского» и Владимира Бушина «Солженицын. Гений первого плевка», Эдуард одобрительно кивнул и добавил:
– Вот ещё Бушин молодец. Настоящий солдат, воин-фронтовик, публицист и соратник, мною уважаемый безмерно, которого тоже не зовут на телевидение – слишком талантлив, честен и несговорчив.
– Эдуард Вениаминович, столько лет прошло, в это трудно поверить, но мы с Вами встречались в «Останкино» в 1992-м на Вашей первой телевизионной встрече с читателями. Я был в режиссёрской группе. Общались несколько часов до и после записи. Вы помните, какую песню Вы тогда запели в финале, неожиданно для всех?
– Какую? – удивлённо спросил Лимонов. – Я пою очень редко.
– «Белая армия, чёрный барон, снова готовят нам царский трон, но от тайги до британских морей…»
– «Красная Армия всех сильней!» А что, правильную песню запел. Злободневную. Как Вы считаете?
– Я такого же мнения, абсолютно.
Лимонов улыбнулся и протянул руку для рукопожатия, вставая из-за стола. Его звали охранники и какие-то люди, желающие пообщаться перед отъездом.
– «Красная Армия всех сильней!» – повторил, продолжая улыбаться, Лимонов, направляясь навстречу компании, ожидающей в стороне.


P.S. После его ухода 17 марта 2020-го о нём на телевидении хорошо говорили Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Александр Проханов… Вышла «лежащая на полке» передача с Познером. Всякий раз, когда в кадре появлялся Эдуард Лимонов, у меня в памяти возникали обложки его многочисленных книг с их героями, вспоминались слова Владимира Высоцкого из песни «Колея» про то, как «покорёжил» он «края» и «шире стала колея»… и лимоновская «Красная Армия», которая «всех сильней»… Когда он говорил о возможной смерти, то пожелал её в бою, в авангарде современной Красной Армии. Удивительный, яростный, упорный, открытый всем ветрам, ни на кого не похожий талантливейший писатель (известный далеко за пределами Родины), аскет, бессеребреник, бунтарь и стойкий «комиссар» одного из красных батальонов, выступающий против буржуев всех мастей, прихватизировавших всю страну и рвущихся к власти в России.
Владимир Межевитин, режиссёр, искусствовед, член союза журналистов РФ


